Жизнь, смерть и вечность в творчестве Антона Павловича Чехова
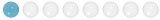
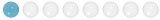
ПЛАН
ВведениЕ. 2
ГЛАВА 1. Главный философский вопрос. . 4
Глава 2. вечность и время. 15
Заключение. 24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 27
Введение
Творчество великого русского писателя Антона Павловича Чехова относится к концу XIX века. Он родился в 1860 году, то есть его рождение практически совпало с реформой 1861 года, и формирование личности писателя шло уже в послереформенной России, состояние которой он прекрасно изобразил в своих произведениях. Чрезвычайно интересно следить за похождениями его героев, смешных и трагичных, веселых и печальных, богатых и бедных. Поражает разнообразие показанных образов, жизненных ситуаций. Язык Чехова не похож на язык других писателей. Он очень красив, а главное, доступен и понятен, сразу видна главная мысль писателя, но эта простота и открытость, в первую очередь, свидетельствуют о глубине жизненного опыта автора. Прекрасно показан образ народа, в произведениях Чехова героями являются люди всех классов общества, начиная от крепостных и заканчивая людьми, приближенными к государю. Тематика произведений Чехова иногда перекликается с тематикой таких писателей, как Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, А. Н. Островский. Но чехов глубоко индивидуален, его стиль, его точка зрения не похожи на стиль и точку зрения других авторов. Несомненно, Антон Павлович - великий писатель и драматург.
Наиболее близки и понятны для читателя великолепные рассказы писателя, как то: «Смерть чиновника», «Умный дворник», «Ионыч», «Кривое зеркало», «Невеста», «О любви». Это далеко не полный список. «Смерть чиновника» - мой любимый рассказ Чехова. Чинопочитание берет верх над жизнью чиновника. Это, конечно, преувеличение, но не слишком сильное, нравы чиновников действительно были близки к этому. В рассказе «Умный дворник» автор затрагивает чрезвычайно важную тему образования народа, но подчеркивает, что его самообразование практически невозможно. А тема положения женщины в обществе раскрывается в рассказе «Невеста». Наде открывается впереди обеспеченная жизнь за спокойным, умным человеком, но она задает себе вопрос: «А что дальше?» А дальше - скучная жизнь без просвета. Мать говорит ей: «И не заметишь, как сама станешь старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня. » Надя ужасается и выбирает возможность учиться, проявить себя.
Темы рассказов А. П. Чехова перекликаются с многогранной темой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». В рассказах и в романе рассматриваются темы «униженных и оскорбленных», человеческих отношений, любви, становления личности, положения женщины в обществе, нравственных переживаний.
Пьеса «Вишневый сад» поднимает социальную проблему: за кем будущее России? Дворянство уходит со статуса ведущего класса, но будущее не за такими, как Лопахин, который прямо себя оценивает: «Мой папаша был мужик, идиот . . . , меня не учил, а только бил спьяна и все палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот. »1 Эти люди невежественны, хотя и деловые, но допускать их до высоких постов нельзя.
Рассказ «Палата №6» - тяжелое, на мой взгляд, произведение. Тяжела и проблема, поднимаемая в нем, проблема бедности России, людей, проблема сломанных судеб сумасшедших, которые не от хорошей жизни, конечно, стали такими.
А. П. Чехов - автор таких классических пьес, как «Вишневый сад», «Чайка», «Три сестры». Это классика театра. Трудно представить русскую драматургию без чеховских пьес, которые написаны живым, метким русским языком.
Актуальность чеховских произведений, я думаю, ни у кого не вызовет сомнений. По его жизненному опыту, изложенному в произведениях, мы учимся жить. Я давно уже поставил Антона Павловича в ряд своих любимых писателей, где есть А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, Ф. М. Достоевский и многие другие.
Философские и социальные проблемы просматриваются в произведениях Чехова даже в маленьком рассказе.
ГЛАВА 1. Главный философский вопрос
Главный философский вопрос, который стоял всегда перед человечеством это вопрос жизни и смерти и возникающий в связи с этим вопрос о боге. Для Чехова он вроде бы и не столь уж главный. Его герои не бьются над загадкой небытия, она для них как бы и не загадка вовсе, и даже когда кто-то из них подходит к краю пропасти, её дыхание не леденит ему сердце. “Вы, - говорит инженер Ананьев в «Огнях», - презираете, жизнь за то, что её смысл и цель скрыты именно от вас, и боитесь вы только своей собственной смерти, настоящий же мыслитель страдает, что истина скрыта от всех, и боится за всех людей”. 2
За всех людей! Это то самое, к чему Лев Толстой пробивался, обдираясь в кровь, в течение шести десятилетий . . . Вот две повести, два героя, вплотную приблизившиеся к бездне. «Смерть Ивана Ильича» и «Скучная история». Первая пронизана утробным ужасом перед чёрным мешком, “в который просовывала его невидимая непреодолимая сила”, вторая наполнена спокойными и беспощадно трезвыми раздумьями о подошедшей к концу жизни. Никаких чёрных мешков здесь нет, зато есть чёрное платье, которое (это финал повести) “в последний раз мелькнуло, затихли шаги . . . Прощай, моё сокровище!”3
Сокровище! Он стал вдруг обладателем сокровища, недавний банкрот, только что признавший себя таковым. “Во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует моё воображение, даже самый искусный аналитик не найдёт того, что называется общей идеей, или богом живого человека”. 4
Это место в работах о Чехове цитируется особенно охотно, но при этом почти всегда происходит ловкая и, видимо, непроизвольная подмена одного понятия другим. “В уста своего старого, умирающего учёного он вложил многое от себя, - настаивает Томас Манн и продолжает: - Где «общая идея» его жизни и творчества?”5 Жизни? Но ведь у Николая Степановича не о жизни речь, у него речь о суждениях, то есть об умственной деятельности, которая является важнейшей, но отнюдь не единственной стороной человеческого существования. Сводить же его к идее, пусть даже крупной, пусть даже великой, - это значит искусственно заужать жизнь, упаковывать её в футляр.
Жизнь всегда - и намного! - шире. В ней, помимо всяческих “суждений о науке, театре, литературе”, которым, конечно же, общая идея нужна позарез, есть ещё другие идеи и - главное! - другие люди. “Футляр” Николая Степановича даёт трещину, едва он постигает это. Не умом постигает - умом это постичь невозможно; “чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо ещё, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь, дар, который даётся, очевидно, не всем”6 («По делам службы») . Николай Степанович этот редкий дар обретает. Пусть поздно, пусть в последний свой час, но - обретает. “Прощай, моё сокровище!” Тут важно не слово “прощай”, тут важно слово “сокровище”, впервые обращённое к другому человеку.
Оттого-то и нет страха смерти. И не только для Николая Степановича. Вот что пишет в Таганрог Чехов двоюродному брату Георгию, когда получил известие, что у того умер отец: “Опиши подробно похороны”. Не смерть, что хотя бы как для медика должно, казалось, представлять для него, куда больший интерес, тем более что совсем недавно специально приезжал в Таганрог навестить дядю, посмотреть, не может ли он, доктор, что-нибудь сделать для него, а - похороны. Смерть же - ну а что смерть, с ней всё ясно и просто. “Человек, - пишет он сестре, - не может быть всю жизнь здоров и весел, его всегда ожидают потери, он не может уберечься от смерти, хотя бы был Александром Македонским . . . Надо только, по мере сил, исполнять свой долг - и больше ничего”7. А похороны - это как раз долг, долг живых перед мёртвыми. Потому-то его и интересует, насколько полно долг этот выполнен.
Смертельно больному солдату Гусеву объявляют, что он не жилец на этом свете. А он? Что он? Ничего. Любопытствует: “Нешто доктор или фельдшер сказывал?” И это - всё. Ещё, правда, сетует, что “домой, не написал . . . Помру и не узнают”. На вопрос же, страшно ли умирать, отвечает чистосердечно: “Страшно”. Но смерти ли, как таковой, боится он? “Мне хозяйства жалко . . . Без меня всё пропадёт и отец со старухой, гляди, по миру пойдут”. 8
Без всякого содрогания думают чеховские герои о собственной кончине. Больше того, многие из них непостижимо легко - а то и легкомысленно! - конец этот приближают. Если в первой редакции пьесы Иванов перед тем, как пустить себе пулю в лоб, произносит, как бы мотивируя своё решение, предлинный монолог, то в окончательном варианте он ограничивается всего несколькими словами.
Саня из громоздкой юношеской пьесы «Безотцовщина» эти прощальные слова пишет. Не говорит, а пишет, не забыв напомнить в конце, что “ключ от Мишиного комода в шерстяном платье”. Вот он, будущий Чехов! Треплев до каких бы то ни было объяснений вообще не снисходит, просто “молча рвёт все свои рукописи и бросает под стол, потом отпирает правую дверь и уходит”. Такова ремарка. Слов - никаких, а спустя несколько минут раздаётся выстрел. Один из героев выходит глянуть, в чём дело, вернувшись же, вполголоса сообщает: “Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился . . . ”9
Так заканчивается комедия «Чайка». Комедия! (Ею, не будем забывать, был первоначально и «Иванов», лишь впоследствии ставший драмой. ) То есть не только смерть игнорируется при обозначении жанра - игнорируется самоубийство, которое испокон веков считалось кульминацией действа трагического.
Крушение отдельно взятой судьбы (пусть даже и своей собственной; или даже в первую очередь - своей собственной) никогда не становится у Чехова крушением миропорядка. То, что с близкого расстояния кажется трагедией, при достаточном удалении приобретает черты комического. Не потому ли, кстати, и называл он свои драмы комедиями? Нет, не летит в тартарары мировой порядок, когда умирает тот или иной человек - за одним-единственным исключением. Исключение это - Лев Толстой. По воспоминаниям Бунина, Чехов не раз повторял ему: “Вот умрёт Толстой, всё пойдёт к чёрту”. 10 Но сначала умер не Толстой, который был на тридцать с лишним лет старше его, сначала умер Чехов, и в этом есть своя если не справедливость, то закономерность. Чехов в свои без малого сорок лет был куда старше - и телом, и, главное, духом - почти восьмидесятилетнего Толстого.
Вообще говоря, вопреки общепринятому мнению, Чехов умер глубоким стариком. Забудьте о хронологии - есть вещи куда более убедительные, нежели хронология. Например, его собственные рассыпанные в многочисленных письмах признания. “А знаете, я старею, чертовски старею и телом и духом. На душе, как в горшке из-под кислого молока”. “Чем глубже погружаюсь я в старость, тем яснее вижу шипы роз . . . ” Это писано в 33 года, и это не мимолётное настроение и уж тем более не кокетство, а точное и трезвое ощущение своего возраста. Внутреннего возраста. В котором он находит если не удовлетворение, то род утешения. “Когда я, прозевавши свою молодость, захочу жить по-человечески и когда мне это не удастся, то у меня будет оправдание: я старик”. 11
И тут надо сказать главное: Россия ждала смерти Чехова. Скорый и необратимый закат столь ослепительно вспыхнувшего таланта.
Чехов знал это. Неоднократно говаривал он - и в письмах, и в произведениях своих, - что жить ему, дескать, осталось недолго. “Я лично даже смерти не боюсь”, - писал он А. Суворину, едва перешагнув тридцатилетний рубеж, и это - не случайный мотив, не дань скверному настроению или разыгравшемуся геморрою. Ровно за месяц до этого, день в день, писал И. Леонтьеву, печатавшемуся под псевдонимом Щеглов, “милому Жану”, как он с улыбкой называл этого человека, что “жить не особенно хочется”. Почему? А Бог весть - почему. “И тепло, и просторно, и соседи интересные, и дешевле, чем в Москве, но, милый капитан . . . старость”. Это писано в октябре 1892 года (октябрь, конец октября, стоял, правда, скверный, слякотный), он в собственной усадьбе, постоянно благоустраиваемой, знаменит, тем не менее “жить не особенно хочется”. Прибавляет, правда, что и “умирать не хочется, но и жить, как будто бы надоело”12.
Он, доктор, весьма дороживший этой свой профессией, как никто умел высмотреть в человеке подкрадывающуюся смерть. “Должно быть, скоро умрёт”, - пишет он о своём первом издателе Лейкине, а, осмотрев Николая Лескова, находит, что “жить ему оставалось не больше года”. И в обоих случаях ошибается. Лесков проживёт ещё целых три года, а Лейкин - более десяти, похоронит когда-то дебютировавшего у него и уже при жизни ставшего классиком писателя. Создаётся странное, несколько жутковатое впечатление, что Чехов всё время торопит смерть, видит её не то лучше, не то ближе других. Зорче . . . Вот-вот, зорче. Так было с его родным братом Николаем (тут он в своём печальном прогнозе не ошибся), так было с Левитаном. Да и со своей собственной смертью - тоже. Он знал, что жизни ему отпущено немного. Когда-то в молодости, ему ещё и двадцати пяти не исполнилось, занимался он спиритизмом (Чехов и спиритизм! Вещи, казалось, несовместимые, а - было, было), и вызванный им дух Тургенева ответил на его прямой вопрос следующим образом: “Жизнь твоя близится к закату”.
В одном из своих последних писем, адресованном жене за три месяца до смерти, Чехов пишет: “Ты спрашиваешь: что такое жизнь? Это всё равно, что спросить: что такое морковка? Морковка есть морковка, и больше ничего неизвестно”. 13 Но ведь то же самое можно сказать и о смерти.
Вообще, такое отношение к смерти свойственно обычно тем, кто уже не раз смотрел ей в глаза - солдатам, людям войны. А тут сугубо мирный человек, обожающий разводить цветы - помнил, где сирень растёт, а где георгин, когда высаживать их и когда подрезать; цветы обожающий и животных, которые всегда жили и в мелиховском его доме, и в ялтинском. Тем не менее, в лицо смерти смотрел. Такое было, когда добирался на перекладных до Сахалина; эту поездку - с его-то здоровьем! - по справедливости считают самоубийственной, но смотрел не только тогда. И до Сахалина было, и после…
Впервые старуха с косой вплотную приблизилась к нему в пятнадцатилетнем возрасте. Это случилось в 1875 году, когда жарким летним днём по дороге в имение близких знакомых семьи Антон выкупался в холодной речке, тяжко простудился “и чуть не отправился к праотцам”, - вспоминал много лет спустя младший брат Михаил. “Как сейчас помню его, лежавшего при смерти . . . ” Антон тоже вспоминал - в письме к поэту А. Плещееву: “ . . . я в дороге однажды заболел перитонитом (воспалением брюшины) и провёл страдальческую ночь на постоялом дворе Мойсея Мойсеича”14, том самом постоялом дворе, что увековечен в повести «Степь».
Второй раз он был в двух шагах от смерти, когда 23 марта 1897 года у него во время обеда с Сувориным в «Эрмитаже» хлынула из горла кровь. Этот эпизод подробно описан в суворинском «Дневнике». Тотчас потребовали льда, обед отменили, и после Чехов два дня отлёживался у Суворина в номере гостиницы «Славянский базар». “Он испугался этого состояния и говорил мне, что это очень тяжёлое состояние”. 15 Ещё бы не испугаться! От туберкулеза в 1884 году умерла двоюродная сестра Елизавета, а пятью годами позже - родной брат Николай . . . Испугаться испугался (но, кажется, то был последний раз, когда он этот страх показал), однако в больницу ложиться не стал, отправился к себе в гостиницу («Большую Московскую» - обычно он останавливался в ней), где у него опять пошла горлом кровь, и доктор Оболенский почти насильно отвёз его в клинику Остроумова на Девичьем поле. Здесь его поместили в палату № 16 - почти в “палату № 6”, заметил Оболенский, и Чехов шутку оценил. Он и сам шутил, посмеивался над собой, и лишь раз лицо его изменилось. Это когда срочно прибывший в клинику Суворин мимоходом обмолвился, что утром смотрел, как по Москве-реке шёл лёд. “Разве река тронулась?” - произнёс он глухим голосом. Отметив это в «Дневнике», Суворин прибавляет: “Ему, вероятно, пришло в голову, не имеют ли связь эта вскрывшаяся река и его кровохарканье. Несколько дней назад он говорил мне: «Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: «Не поможет. С вешней водой уйду»”. 16
В клинике Остроумова его посетил Лев Толстой, заведший разговор о бессмертии, суть которого сводилась к тому, что надо слиться с неким всеобъемлющим началом, “сущность и цели которого, - не без иронии цитировал в письме Чехов яснополянского мудреца, - для нас составляют тайну”. То есть купить вечную жизнь ценой утраты собственной индивидуальности. “Такое бессмертие мне не нужно”. 17
А какое же в таком случае нужно? И вообще, верил ли он в него, в бессмертие? Бунин вспоминает, что он называл его вздором и брался доказать это, как дважды два четыре. Но в другой раз говорил нечто прямо противоположное. “Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие - факт. Вот погодите, я докажу вам это . . . ”18
Но, собственно, проблема бессмертия - это проблема веры, а с верой у Чехова отношения были весьма и весьма непростые. Чехов верит, если пока что не в Бога, то в возможность познания Бога, а стало быть, и в самого Бога.
... продолжение- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда


